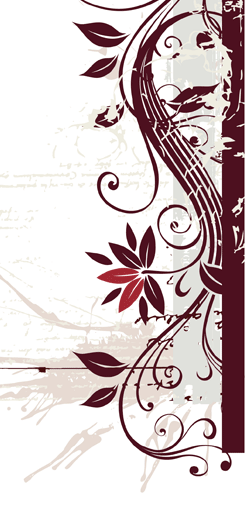«Когда-то ночные звёзды сияли бело-голубым светом… Солнечная система впитала в себя тяжёлые элементы, порождённые умершими звёздами… В таинственном мраке Вселенной рождались Галактики».
Борис прервал чтение. Он хотел представить себе, как это было. Бело-голубые звёзды победно сверкали, недосягаемые, величественные, не предполагая, что им уготована старость и даже смерть. Но умирая, они всё-таки не исчезали бесследно. Возникали новые миры с их тяжёлыми элементами.
– Па! Читай дальше!
– Подожди, дай подумать.
– Па, а люди, они умирают и всё?
– И всё начинается сначала…
– Ты не ответил, у них нет тяжёлых элементов, которые нужны солнечной системе?
– Самый тяжёлый элемент человека – его любовь. Он оставляет её в детях, книгах, музыке, в цветущем саде. Да разве всё перечислишь…
– А ты оставишь её во мне и в книгах, которые написал?
Борис, тридцатилетний мужчина с румяным, пышущим здоровьем лицом, рассмеялся.
– Сначала я немного поживу, а потом, пожалуй, так и будет. – Сказал и побледнел.
– Па, а я долго буду жить?
– Сашка, ты задаёшь глупые вопросы. Конечно, долго, намного больше меня.
– А наоборот не бывает? – в Сашкиных глазах грусть
– Пора спать!
– Вот ты какой, папочка! Не отвечаешь! Всегда так ты… – заныл Сашка, но уже непонятно, сонно, уютно, и замолчал вовсе. Уснул.
На столе в вазе сирень. Борису она кажется бело-голубой. Может быть, это миллионы погибших звёзд каждую весну вспыхивают на земле в кистях сирени? Маленькими звёздочками, обещающими счастье. Напоминая о том, что мечты не умирают. Что их когда-то перенесли из далёких миров на землю в знак вечной связи, и как дар человека высоко держать голову. Ибо, чего он стоит без мечты?
Мечты… Они живут в душе, неясные, беспокойные, белеют облаком, вспыхивают голубыми зигзагами молний, звучат стрекотом цикад в тёмно-синей степи. Чтобы однажды в холодный, ненастный вечер, когда жизнь человека держится на одной тоненькой ниточке Надежды, когда воет тоскливый заунывный ветер беды, войти в комнату и согреть уставшего путника, напомнить ему о прекрасных звёздах, светивших когда-то бело-голубым огнём.
Мечты гостят недолго, вспугнёшь – исчезли бесследно, словно и не было их никогда. Но вздох облегчения уже вырвался из груди. И снова можно жить.
По шторе скользнула лёгкая тень.
«И день, как ночь, и ночь без сна», – зазвенело, запело – оборвалось.
– Папочка! – звоном разбитого бокала зазвенел голос сына, обрываясь на последнем звуке. Еле слышно, жалобно, зовущее.
И сразу комната сжалась, придавила низким потолком, а ваза с сиренью показалась нарисованной.
На диване Сашка, десятилетний сын Бориса. Рвёт пуговицы жёлтой пушистой пижамы. Хватает воздух открытым ртом. Рядом, на тумбочке, как часовые, стоят пузырьки с лекарствами.
– Не бойся! – Борис нарочно медленно идёт к нему, улыбается. Хорошо улыбается. Уверенно. Натренировался. Глядя на отца, Сашка уже спокойнее расстёгивает пуговицы.
– Сейчас, парень, я дам тебе отравы и ты оживёшь! – шутит Борис.
Сашка вымучивает из себя улыбку. Пьёт капли и, подражая отцу, небрежным и точным движением ставит стакан на стол. Откидывается на подушку, закрывает глаза. Все силы ушли на этот жест. Борис садится рядом. время тянется тошнотворно медленно. Проходит полчаса. Сашка дышит ровнее, засыпает, но в отца вцепился – не оторвать. В этом его спасение! Борис успокаивающе гладит пальцы мальчика. Пальцы с обгрызенными ногтями. Слабые, бессильные. Он сжимает их в кулак. Совсем неплохой кулак, в мальчишеской драке кой-чего бы стоил – будь Сашка здоров. Борис до сих пор не сожжет смириться с болезнью сына, с тем, что сероглазый мальчик тает на глазах.
Приступы удушья. Они начались после автомобильной катастрофы. Летняя трасса юга. Дорога нафарширована машинами, как огромный удав, наглотавшийся кроликов. Ползёт, извивается. К морю!
Их сбил «Жигулёнок» красного цвета, такой точно, как нос его хозяина. Этот хозяин что-то плёл о друге, которого не видел с ясельного возраста. На радостях отметили… Борис с детства ненавидел ясли. Он популярно объяснил это красноносому. Но это было «потом». А сначала Борис побывал под обломками машины. Жену и сына выбросило на дорогу. Небольшие ссадины не в счёт. Оба живы-здоровы. Бросились вместе выручать Бориса. Пока переворачивали машину и вытаскивали его, живого и невредимого, Сашка не выдержал: осел на мостовую и стал жадно хватать воздух широко открытым ртом. В протоколе значилось – жертв нет. Была жертва – сын. Он задыхался от страха за отца. Его папа! С которым он ходил на рыбалку и в цирк. Пускал планёры в степи, где простору – смотри – не насмотришься! Где гулял ветер, вороша цепкие травы, срывал нежные лепестки с пылающих маков. Нагулявшись, озорник улетал к морю, пасти стада белых барашков волн.
В степи так хорошо вдвоём. Правда, туда залетали чайки, неуёмные птицы, в поисках пресной воды и наживы. У самой границы степи и моря морской воздух смешивается со степным, изготовляя колдовской аромат, от которого кругом идёт голова, и не поймёшь, где земля, а где небо. Особенно, если лежишь на спине и смотришь в небо, а рядом папа.
Они закрывали глаза и затевали игры. Куда летим, что видим. Наперебой, добавляя подробности, высаживались на таинственные планеты, цепенели от холода, задыхались от жары и ненависти. В скафандре совсем не трудно идти, почти как в маске и ластах. Папа так умел выдумывать. Он писал книги. И вот сейчас он под машиной!
«Скорая помощь» увезла не Бориса – Сашку!
С этого дня приступы у сына следовали один за другим. Борис почти не спал. И днём, и ночью, он видел перед собой синеющее в удушье лицо сына. Обычно всё начиналось ночью и длилось бесконечно долго. Неотложка, белые халаты – он познакомился со всеми врачами города. Наконец, они уезжали. Сашка засыпал. Борис уходил к себе в кабинет, пытался успокоиться. Но воздух в комнате, липкий, тяжёлый, душил и его.
Воспоминания… Они пропитали стены, повисли на занавесках, окутали лампы серым цветом страха, забились в ворс ковров, жгли ступни ног. Борис гнал от себя тени. Всё было тщетным. Дорожное происшествие поселилось в квартире, убивало сына, отравляло жизнь ему и жене. Борис хотел увезти семью в другой город, но Сашка и слышать не хотел о переезде. При одном упоминании о дороге – у него начинался приступ. На жену было больно смотреть. В постоянно заплаканных глазах застыло отчаяние, коротко постриженные волосы на висках поседели, потеряли блеск и напоминали парик. Она часами неподвижно сидела на стуле, опустив полные руки на колени. Маленькая голова её была надменно поднята. Неподвижная, белая, красивая. Ночами, при свете настольной лампы, жена казалась ему гипсовой статуей.
– Ну, нельзя же так! – не выдерживал Борис.
Величаво поворачивалась она к нему, хмурила брови-крылья и голосом учительницы выговаривала:
– Помоги ему! Ты можешь! Ты всё можешь! Я знаю! – словно двоечнику, который мог стать отличником, но не хотел.
Борис досадливо морщился. Чёрт возьми, он многое мог, но только не это. Коренастый, широкоплечий, с перекатывающимися буграми мышц на спине и руках, он ненавидел себя. Но жене не отвечал. Ходил из угла в угол часами до изнеможения. Она смягчалась, шептала
– Прости! – виновато, обречённо.
От жалости сжималось горло. Уходил на балкон. Курил торопливо, много. Писать! Если б мог писать. Нашёлся бы выход. Почему так думал – не объяснишь. Но когда пишется – яснее голова, приходят силы.
Борис брал ручку, но всё прокручивалось снова – визг тормозов, крик сына, плач жены, боль… Писать он не мог.
Однажды в привычную пляску ночных кошмаров ворвался лёгкий свежий запах сирени. Борис облегчённо вздохнул. Открытое окно звало к себе. Он пристально вглядывался в ароматную темноту ночи. Неожиданно во мраке тягучей линией серебристого фломастера очертилась дорога, вьющаяся между гор. Крупным планом проявились корни кустарников, цепляющихся за камни и ненадёжную почву. Встречная струя воздуха втягивала комочки почвы в открытое окно автомобиля, сбивая усиливающийся запах роз. Приближались плантации знаменитого розария юга. Дорога как бы падала с горы в низину. Широкой полосой надвое делила цветущую долину. Именно здесь, на спуске, произошла авария.
Борис бросился к столу и стал писать. Он вспоминал каждую минуту, проведённую в дороге. Шутливую перебранку с сыном. Платье жены, зелёное, с воланами. Её духи, запах которых его преследовал, волновал. Корзину с едой, в ней чёрный виноград, крупный. Колесо, завертевшееся волчком. Белая босоножка, одиноко лежащая на обочине. И раскатившиеся виноградинки, как разорванные бусы.
Обрывки чувств, запечатлённые в бездонных кладовых памяти, взгляды, слова – всё соскребал с обострённых нервов. Складывались долгожданные строчки рассказа, освобождающие его от страхов, что накопились за месяцы. Теперь они переселились на бумагу. Борис поднял голову, повёл плечами, пригладил волнистые волосы и легко встал. В комнате стало прохладно и пусто. Словно что-то ушло. Ещё не веря себе, выглянул в окно. Светало. Сверху кусты сирени казались горной грядой и, как заснеженные пики, высвечивались гроздья соцветий. Наклонился, сорвал ветку и принёс сыну.
Спит. Тонкие штрихи тёмных ресниц, бледное лицо, мягкие льняные волосы. Поверх одеяла рука с крупной мальчишеской кистью на тонком запястье. Когда-то и у Бориса были такие же руки. Мать звала их молоточками. Дверь памяти детства. Сашкина, вот она. А будет ли у него юность, зрелость? Обманывать себя больше нечего. Вчера врачи сказали правду – ничего у Сашки не будет. Ещё несколько месяцев, и он уйдёт, не прожив, ничего не узнав. А он, его отец, будет жить. Он ведь так здоров! Борис застонал. А что проку? Малыш уйдёт. А он, его сильный, всемогущий папа, ничего не мог сделать! Ни-че-го! Он бы отдал сыну всё, если бы мог. Он бы отдал ему свою душу. Он годами её созидал. Её тяжёлую весомость. Центр тяжести его существования, которое делает человека устойчивым в жизни. Как отдать её сокровища сыну, чтобы и его жизнь они освещали светом мужества, добра, красоты? Каждый волен прервать свою жизнь – труд небольшой, но страшный. А прервать её так, чтобы отдать другому человеку? И чтобы тот, другой, жил твоим настроем – вот в чём состояла главная трудность. Где те самые дни, по которым люди ведут отсчёт всем прочим?
Некая граница проходит в семнадцать лет. Его встреча с главной книгой жизни, ставшей потом настольной. Джек Лондон «Мартин Иден». Читальный зал. Лихорадочное листание страниц, где на каждой откровение-счастье, открытие своего второго «я». Позже он сможет жить без Льва Толстого, Бернарда Шоу. Но тогда…
На груди Бориса вспыхнули маленькие звёздочки и, оторвавшись, вытянув хвосты, полетели к Сашке и прикоснулись к его груди.
Борису восемнадцать лет. Встреча с другом, который на всю жизнь. Горы, деревья по склону словно присели. Светлая холодная река. Вечер. Костёр, разговоры, мечты.
И снова хвостатые метеориты, изогнувшись, оттолкнулись от Бориса и устремились к Сашке.
Воспоминания… воспоминания… Звёздные мосты сверкали в темноте комнаты, как ночные радуги, украшая, освещая спящее лицо сына.
Борис почувствовал, что стал ниже ростом и моложе. Он провёл рукой по щеке. Детская, атласно-нежная кожа. Встал у косяка двери, нащупал отметину, где значился рост Сашки. Как раз у его макушки. Значит, и ему десять лет, остальные будут принадлежать сыну. Хорошо. Теперь надо отдать здоровье. Это значительно проще. Люди легче отдают здоровье своим детям, чем созидают их души.
Как же тогда было, в детстве? У его порога валялся старый футбольный мяч. Поле, там стояли ворота. Разойдясь в разные стороны, били по мячу, не жалея ботинок. Можно и босиком, повизгивая от боли, но терпели. И так до вечера, пока из лесу не появлялась безбровая девчонка Лидка. Она тащила за собой на верёвке упирающуюся козу. Теперь домой! Есть хотелось невыносимо! Увёртываясь от маминых шлепков, скорей схватить корочку домашнего круглого хлеба, развернуть лопух, вытащить из него закатанное в кругляш масло, захлёбываясь, пить парное молоко. Потом сонным брести к кровати. Тёплые мамины руки перехватывали по пути, подсовывали таз с водой. «Мой ноги, паршивец!» Борис называл таз «паршивцем». Не было сил опустить ноги в воду. Они гудели и болели. С бесчисленными синяками на коленках, со сбитыми в кровь ногтями – ноги десятилетнего пацана. мамин подзатыльник решал дело. Холодная вода мутнела от грязи. Кое-как поболтаться в ней – и к кровати. Ночами в открытое окно залетали комары. Кусали нещадно. Куда бы от них деться? Умчаться! Узкая кровать превращалась в лошадь. Она перескакивала через подоконник и к реке. Туда, где в норах, под кронами деревьев, склонённых над водой, жили раки. Они сжимали руки клешнями, и потом попробуй их оторвать! Сунешь руку в нору – и жди удовольствия. Зато когда сваришь!..
В тёмном окне засветилась серебряная дорога, высвечивая вдали футбольное поле и лежащий совсем близко футбольный мяч. Борис птицей взмыл на подоконник и спрыгнул вниз. Он бежал по серебристой дороге между сиреневыми кустами. Остановился. Если немного наклониться вправо, левую ногу отвести назад, оттянуть носок и ударить по мячу, – пас будет, что надо! И в этот удар он должен вложить все свои силы, всё здоровье, чтобы залепить Сашке так сильно. Чтобы этим ударом передать ему всё, а заодно выбить дурацкий страх. И если это удастся, он отдаст сыну всё, что смог, всё, что у него было в жизни. А себе оставить огарочек Сашкиной жизни.
Взрослые мысли путались с детскими, мешая рассчитывать. От хорошего паса звенит и поёт внутри. И хочется стоять на голове. Борис наклонился вправо, отвёл левую ногу назад, и, умоляя мысленно Сашку не пугаться, залепил пас. Мяч попал в окно и в Сашку. Потому что тотчас появилась там Сашкина голова, и раздался ор:
– Какой дурак не даёт мне спать? Получай свой мяч! – кричал мальчик здоровым звонким голосом.
Мяч вылетел и покатился. И Борис впервые в жизни почувствовал, как болит сердце. Словно разбитой бутылкой ахнули по груди. Дышать стало трудно. Но мяч катился рядом. И Борис, задыхаясь, бежал за ним, по-взрослому понимая, что никогда его не догонит. Но он уже решил, что лучше умереть от боли, чем от страха. Борис уже был мужчиной и знал, что такое мужество.
А мальчишка, которому было больно, кричал:
– Помнишь, как ты жалела меня и плакала, мама? Где ты?!
За ту ворованную сирень, что росла у пани Зоси. Ты так хлестала по рукам и плакала вместе со мной. За ту сирень, лучшую в нашем посёлке, персидскую, с тяжёлыми махровыми гроздьями, на высоких ветках. Мы с Лидкой обнесли их за ночь. Утром напоённые росой букеты красовались на экзаменационном столе; надёжно защищая нас от глаз строгих учителей. И учителя добрели, пряча лица в лепестки, похожие на звёзды.
Мама!
|